Глава 2. CКАЗКИ И БЫЛИ
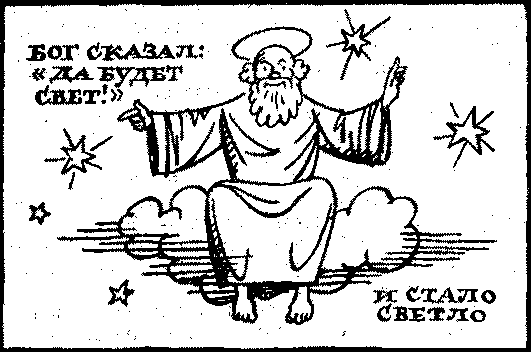
ДРЕВНИЕ ЯЗЫКОВЕДЫ
Каждый, кто бы ни задумался над человеческой способностью говорить, немедленно задает себе вопрос: «Откуда и как получили люди эту удивительную способность? Как они научились языку?»
Вопрос этот только внешне выглядит простым и безобидным. Не преувеличивая, можно сказать: три четверти толстых томов, написанных в течение сотен лет по языкознанию, посвящены решению этой труднейшей загадки.
Правда, простодушные люди никогда не были склонны долго ломать над нею головы. Почему именно человеку на долю выпало такое счастье? Почему ни коровы, ни кошки, ни орлы, ни львы, ни муравьи, ни лягушки не говорят нигде, кроме как в сказках? "Да очень понятно, — пожимали плечами эти люди, — человек — существо разумное; вот он и придумал язык для своего удобства ... Худо же без языка!"
Номы‑то с вами теперь знаем: скорее, наоборот! Не потому человек придумал себе язык, что он обладал разумом. Потому он и и смог стать по‑настоящему разумным, мыслящим существом, что овладел способностью речи! Без языка у него не могло быть подлинного, человеческого разума. Задача оказывается далеко не простой. И много тысячелетий люди тщетно ломали головы, стараясь ее разрешить.
В глубокой древности все, что человек не мог в мире объяснить простыми причинами, он относил за счет таинственных и могущественных сил — богов.
Спрашивается: почему гремит гром и бьет из тучи в тучу молния? Очень просто: это боги воюют между собою, там, за облаками.
Неведомо, почему море половину суток приливает к земле, а половину уходит от нее вдаль? Должно быть, воду гоняет морское божество.
Никто не знает, откуда взялся мир со всем, что его наполняет. Очевидно, его сотворили всемогущие боги.
А если могущество богов столь велико, что они могли создать самого человека, так уже, конечно, им было легко снабдить его языком. Либо они так уж и породили его говорящим, либо же потом, по своей божеской воле, подарили ему язык, научили говорить... Как же именно это случилось?
У разных народов существовали различные мифы по этому поводу. В евангелии говорится примерно вот что: "В начале всего было слово[1]. Это слово было обращено к богу. Оно само и было богом. Все было заключено в этом слове, и помимо него ничто в мире не могло появиться..."
Трудно как следует уразуметь, что´ имел в виду составитель этого красивого, но туманного рассказа. Получается, что «слово» (а значит, и язык!) существовало на свете раньше, чем появился тот, кто может говорить, — человек. Не он, следовательно, создавал разные слова, а, напротив того, его самого создало таинственное божественное «слово»: оно породило и человека и весь мир. Слово, которое никем не сказано и тем не менее существует! Слово, которое звучит в совершенно пустом пространстве и из которого возникает мир! Надо признать, что от такого «объяснения» ум заходит за разум.
Совершенно иначе говорили об этом библейские древнееврейские мифы.
Бог, можно прочитать в библии, сотворил весь мир из ничего ровно в шесть дней. Но сделал он это не сразу.
Он начал с того, что сказал: «Да будет свет!» И стало светло.
По этому рассказу можно понять, что бог произносил еврейские слова в то время, когда еще не было не только еврейского народа, но и человека вообще, и даже самой Земли. Волшебным образом он умел уже, так сказать, «заранее» говорить по‑древнееврейски, знал еще не существующий язык. Затем, устраивая отдельные части мира, бог придумывал им разные подходящие названия, по‑видимому, тоже все на древнееврейском языке. "И назвал бог свет «днем», а темноту — «ночью». Получается, что первый человеческий язык был непосредственно создан божественной силой.
Но на следующих страницах все представлено противоположным образом:
"Бог вылепил еще из земли разных зверей и птиц и привел их напоказ к первому человеку, чтобы тот придумал, как их надо называть . И первый человек сейчас же дал имена диким животным, и домашним, и даже птицам, летающим по небу..."
По этому мифу, наоборот, бог не владел человеческим языком и поручил дело изобретения различных слов самому человеку.
Конечно, даже древние люди не могли долго удовлетворяться столь путаными и противоречивыми сказками. Над человеческой способностью говорить они начали размышлять уже по‑иному. И многим стало приходить в голову, что эта способность является одним из естественных, природных свойств человека.
В самом деле: мы видим, как каждый из нас без всякого особого обучения, родившись на свет, сам начинает плакать, смеяться, есть, двигаться, ползать, ходить, хватать руками различные предметы. Это не удивляет нас, кажется естественным. Так почему же не допустить, что в определенном возрасте каждый человек так же неминуемо должен и заговорить , как собака — залаять, а жаворонок — запеть?
Вся беда в том, думали древние, что это трудно проверить. С раннего детства нас окружают люди, которые уже умеют говорить, взрослые. Никак не поймешь: почему начинают пользоваться языком малыши — потому ли, что в них самих созрела природная способность к речи, или потому, что их искусственно обучают говорить взрослые?
Было бы очень интересно, если бы хоть одно дитя выросло в полном одиночестве, не слыша человеческого голоса. Начало бы оно говорить без учителя или же так и осталось бы навеки немым? А если этот ребенок заговорил бы, то на каком языке? На языке своих родителей, на другом, из числа существующих, или же он придумал бы свой, новый язык. Предположим, что маленький человек начал бы самопроизвольно болтать на одном из наличных в мире языков. Разве из этого не следовало бы заключить, что именно данный язык является тем, на котором некогда впервые заговорили и все люди? Пожалуй, это было бы всего правдоподобней. Не поставить ли такой интересный опыт?
«БЕКОС, БЕКОС!»
Вот что рассказывает нам по этому поводу древний историк Геродот, живший за две с половиной тысячи лет до нас:
"Перед тем как воцарился в Египте фараон Псамметих, родом эфиоплянин, египтяне чванливо считали себя самым древним народом мира.
Царь Псамметих, однако, пожелал удостовериться — так ли это или не так? После его расследования египтянам пришлось признать, что фригийцы[2] появились на земле раньше всех, а себя считать вторым по древности народом.
Псамметиху долго не удавалось добиться решения вопроса, и он, наконец, придумал поступить вот как.
Он повелел отобрать у родителей — египтян самого простого звания — двухмладенцев и воспитать их вдали от людей, в уединенном месте, под наблюдением старого пастуха царских стад. Было строго приказано, чтобы детишки росли сами по себе, никого не видя, а пастух ухаживал бы за ними сам, кормил бы их козьим молоком, не допускал к ним никого и не произносил в их присутствии ни единого слова ни по‑египетски, ни на других языках.
Все эти строгости любознательный фараон измыслил ради того, чтобы узнать, какое же первое слово сорвется с детских уст, когда малюткам придет пора заговорить.
Все было сделано по царскому желанию.
Два года спустя пастух, войдя однажды с молоком и хлебом в хижину, услышал, как оба ребенка, прильнув к нему и обнимая его ручонками, стали повторять непонятное слово: «Бекос, бекос!»
Сначала старец не придал этому значения. Однако, поскольку всякий раз, как дети видели его, он слышал от них то же самое слово, ему пришло на мысль сообщить об этом своему повелителю. Фараон тотчас же созвал ученых мужей и стал допытываться, какому народу известно слово «бекос» и что´ оно на его языке означает. Наконец удалось узнать, что так фригияне именуют хлеб.
С той поры на основании столь неопровержимого свидетельства египтянам и пришлось признать, что их соседи фригийцы — более древнее племя, чем сами они, и что фригийский язык имеет за собой все права первородства..."
Старик Геродот простодушно записывал все, что ему рассказывали разные бывалые люди. Записал они эту явную выдумку. По его словам, приходится думать, будто Псамметиха волновал только вопрос о том, какой народ древнее.
Но очень возможно, что любознательный фараон хотел узнать не это, а совсем другое. Может быть, он пытался проверить россказни жрецов, утверждавших, что египетский язык — не только первый, но и божественный, что его дали египтянам сами их суровые боги. Приступить к такой проверке в открытую было небезопасно даже и для фараона; ради «страховки» он и придумал для нее замысловатый, предлог.
Правда, рассудив здраво, Псамметих должен был бы счесть свой жестокий опыт излишним. Задолго до него природа тысячи раз проделывала точно такие же опыты — и всегда с одинаковым результатом.
В Египте, как и повсюду, нередко рождались на свет глухие дети или от различных заболеваний теряли слух грудные младенцы. Не надо было запирать их в уединенные хижины, чтобы слова человеческой речи не доходили до них; даже живя среди людей, они не слыхали ничего и уж никак не могли научиться человеческому языку. И всегда, от начала дней, такие глухие малыши неизменно становились немыми. Ни один из них ни разу не заговорил сам — ни по‑фригийски, ни по‑египетски, ни на каком‑либо другом языке. Наблюдая за ними, можно было твердо сказать: нет, сам по себе, без помощи других людей, без обучения ни один человек не способен начать говорить.
Язык не дается человеку «по природе», хотя именно так возникает у него умение дышать, улыбаться от радости, плакать от боли, сосать материнское молоко или морщиться от кислого вкуса во рту.
Языку человек может научиться только у другого человека, у других людей. Язык родится и живет только там, где люди общаются друг с другом.
Геродотов Псамметих не мог, конечно, рассудить так. Он свято поверил своему опыту и убедился, что людям свойственна естественная, врожденная, способность речи. Он остался в уверенности, будто, каждый человек рано или поздно, если его не «сбивать с толку», заговорит по‑фригийски. Так для него разрешилась загадка человеческого языка.
Само собой, подобное мнение не могло продержаться долго: слишком уж явно оно противоречило многочисленным фактам. В разных странах разные люди думали над тайнами языка. За долгие века они измыслили и распространили немало других догадок по тому же поводу. Я не могу рассказать вам последовательно обо всех таких «теориях», и мы ознакомимся только с двумя или тремя из них, которые пользовались когда‑то наибольшей верой и самым широким распространением.
ТЕОРИЯ «ВАУ‑ВАУ»
Спросите кого угодно: «Почему одна из наших лесных птиц называется кукушкой?» Вы наверняка получите твердый ответ: "Потому, что она кричит: «,,ку‑ку!''».
Я думаю, вы и сами считаете это несомненным.
Говоря так, однако, вы, сами того не подозревая, примыкаете к сторонникам одной из языковедческих теорий о происхождении языка, так называемой «теории звукоподражания». Создана она была некоторыми учеными прошлого, а от своих противников получила насмешливое имя «вау‑вау» теории. В чем она заключается?
На первый взгляд «вау‑вау» теория очень проста и убедительна.
Вспомним, как маленькие дети, учась говорить, называют впервые встреченных ими животных.
Увидев, скажем, собачонку и услышав ее дай, удивленный маленький человек начинает передразнивать животное: «ав‑ав», или «тяф‑тяф», или «вау‑вау». Потом, немного спустя, он уже так и называет: собаку — «ав‑ав», кошку — «мяу‑мяу», свинью — «хрю‑хрю». Еще позднее собака становится у него «авкой», поросенок — «хрюшкой». Смотрите‑ка, из простых звукоподражаний родились уже имена существительные, слова !
Что, если когда‑то, очень давно, на заре истории, только начиная создавать язык, так же действовали и наши предки, первобытные люди?
Вот в весеннем лесу какая‑то птица из года в год выкликала над их головами свое «ку‑ку». Может быть, ее первоначально так и называли: «куку»? А потом понемногу из этого имени‑передразнивалки образовались уже настоящие, связанные с ним слова: «кукушка», «кукушонок», «куковать»...
Если это верно, в отношении кукушки, то, очевидно, то же бывало и в других сходных случаях. И, вполне возможно, многие из наших первых слов также родились из подражания голосам птиц, зверей, раскатам грома, свисту ветра, шуршанию камыша, шелесту листьев, рокоту бурных вод, грохоту обвалов. Они‑то и явились самыми ранними словами: стихии и звери научили человека говорить. А когда он привык к ним, так сказать, «вошел во вкус», приучился пользоваться этими словами‑звукоподражаниями, тогда, возможно, он стал искать и нашел и другие источники для пополнения своего «словаря».
Теперь — так говорили изобретатели этой теории — нам не всегда легко угадать старое первобытное слово‑передразнивалку в наших словах: за десятки тысяч лет с ними могли произойти большие перемены. В словах «авка» или «хрюшка» и то не каждый и не сразу заподозрит собачий лай или свиное хрюканье. И всё же язык, по‑видимому, родился именно из подражания простым звукам природы, которое сделало человека говорящим.
Все это звучит очень правдоподобно.
В самом деле, возьмите название хотя бы той же кукушки. Как называют эту птицу разные народы Европы?
У русских она
— куку´шка
В Чехии
— ку´качка
У болгар
— кукуви´ца
У немцев
— ку´кук
У французов
— куку´
У румын
— кук
По‑испански
— ку´ко
В Италии
— ку´куло
В Турции
— гугу´к[3]
Объяснить такое поразительное совпадение имен в разных языках можно только тем, что разные племена подражали одному и тому же птичьему крику. Многие на этом и остановились.
Однако, если рассудить хорошенько, приходится признать, что переносить наблюдение, может быть и справедливое в отношении кукушки и ее имени, на другие слова было бы неосторожно. Кажущаяся бесспорность такой догадки рассыпается довольно быстро.
Чтобы разобраться в этом хитром вопросе, нам придется начать опять‑таки очень издалека.
ЛЕСНЫЕ ЗВУКИ
Слово «кукушка» все производят от ее крика. Но вот уж слово «синица» как будто с писком этой птички не связано. Многим представляется, что оно, скорее, придано ей по цвету ее оперения . Может быть, «синица» значит «синяя птичка»?
А бы видали когда‑нибудь живую синицу?
"Большая синица ростом с домашнего воробья. — написано в энциклопедическом словаре. — Верхняя сторона ее тела желтовато‑зеленого цвета , переходящего местами в серый . Нижняя сторона — желтая . Шапочка на голове, бока шеи, горло и продольная широкая полоса, идущая по нижней стороне тела — черные . Щеки — белые . Клюв — черный ".
Спрашивается: где же здесь синий цвет?
"Вот‑вот, так оно и есть, — скажут вам тотчас сторонники «вау‑вау» теории. — Название синицы, конечно, не имеет никакого отношения к ее окраске. Это тоже звукоподражание. Слыхали вы, как эту птичку еще зовут в народе? Она носит несколько имен: "зенька, зинька, зинзивер ..."
Это верно. Знаменитый русский «птицевод» А. Богданов так прямо и писал когда‑то: «Зинькой и зинзивером синицу прозвали по ее крику...»
Если так, тогда можно допустить, что «зинька» — настоящее имя синицы, а «синица» — его искажение. «Зинька, зиница, синица...» Пожалуй, «вау‑вау» теория права: ведь мы опять договорились до звукоподражания.
Ну, а на самом деле на чьей же стороне правда?
Многие птицеловы, охотники, зоологи свидетельствуют: "большая синица (это одна из синичьих пород) весной действительно испускает звонкий крик: «зинь‑зинь‑таррарах!»
Казалось бы, это все решает. Но беда в том, что другие столь же осведомленные знатоки слышат в щебете синицы несколько иные звуки: «Пинь‑пинь‑тарарах!»
Украинские любители птиц все, как один, от профессора до пионера‑птицелюба, согласно утверждают, что писк синицы надо передавать так: «Цень‑цень‑тарарах!»
И, наконец, совершенно случайно, в стихотворении американского поэта прошлого столетия Эмерсона я наткнулся на чувствительные строчки, посвященные той же лесной певунье:
Как вешний привет раздается
Повсюду: «Чик‑чик‑э‑ди‑ди!»[4]
Вот теперь и судите сами, каким же из этих мало схожих звуков люди должны были подражать? Как было бы правильнее окрестите веселую обитательницу северного леса: «зинька», «пинька», «ценька» или «чикчинька»?
Чтобы решить этот сложный вопрос, пойдите в марте в лес или, еще лучше, приманите синиц к своему окну, вывесив кусочек сала на веревочке. Гости сейчас же явятся.
Прислушайтесь к их голосам — и вы немедленно убедитесь, что ничего похожего ни на «зинь‑зинь», ни на «чик‑чик» они не «произносят». Просто птички издают три каких‑то очень неясных музыкальных тона: два — покороче и позвонче, третий — раскатистый и трескучий. Изобразить, передать их звуками нашей человеческой речи просто немыслимо.
В этом нет ровно ничего удивительного. Голосам животных нелегко подражать; чтобы их «записывать», ученые‑орнитологи (птицеводы) предложили множество сложных систем, но среди них ни одной удовлетворительной.
Поэтому каждый человек, и тем более каждый народ, передает эти крики на свой собственный лад.
Возьмите для примера обыкновенную утку. Думается, мы, русские, правильно считаем, что эта птица крякает , произнося совершенно ясно: «кря‑кря».
Но, по мнению французов, утиное кряканье надо передавать иначе: «куэн‑куэн».
Румыны изображают крик утки опять‑таки по‑своему: «мак‑мак‑мак». А датчане полагают, что их утки ясно выговаривают: «раб‑раб‑раб».
К сожалению, я еще не успел узнать, как крякают утки других народов; вероятно, пришлось бы столкнуться со множеством самых разнообразных мнений.
Еще любопытнее получается с петухом. Уж это ли не знаменитый солист среди птиц? Кажется, кто может не понять, что он ясно и громко возглашает свое несомненное, членораздельное «ку‑ка‑ре‑ку»?
А вот подите же! Французам в его крике слышится несколько иное сочетание звуков: «кокорико»; а петухи британских островов, по уверениям их хозяев‑англичан, распевают нечто на наш слух совсем уж неправдоподобное: «кок‑э‑дудль‑ду»[5].
Откуда же такое странное несогласие?
Очень понятно откуда: послушайте несколько часов подряд петушиное пение, и вы, точно так же как и с синицами, убедитесь, что птица эта просто не подчиняется ни русским, ни французским, ни каким‑либо другим человеческим словарям. Она ровно ничего не «выговаривает». Она тянет что‑то чисто петушиное, совершенно свое, нечто вроде «а‑а‑а´‑а‑а´», «о‑о‑о´‑о‑о´» или «э‑э‑э´‑э‑э´», в зависимости от возраста, сил и породы. А нам, людям, вольно вкладывать в этот простой, нечленораздельный крик свои, чисто человеческие звуки, которых там и в помине нет...
Это неудивительно. Точно так же, желая изобразить голосом звуки музыкальной пьески, вы ведь тоже начинаете напевать какое‑нибудь «тру‑ля‑ля, тру‑ля‑ля», или «тим‑пам‑пам», хотя, конечно, ни рояль, ни скрипка, ни труба ничего похожего «произносить» не способны.
ОТ ЗИНЗИВЕРА ДО СНЕГИРЯ
Выводы, к которым я вас привел, настолько неожиданны, так противоречат обычным нашим представлениям о названиях животных и птиц, что стоит, пожалуй, проверить их еще на одном любопытном примере. Впрочем, речь и тут пойдет о той же самой синице.
В «Лесной газете» — книге известного писателя Виталия Бианки — есть рассказ, озаглавленный: «Зинзивер в избе»,
"В лесную избушку... через открытую дверь смело влетел зинзивер — синица; желтый, с белыми щеками и черной полосой на груди..."
Несколько ниже талантливый писатель‑натуралист объясняет и происхождение этого странного птичьего имени:
"Пел зинзивер, синица... Птица нехитрая: «Зин‑зи‑вер! Зин‑зи‑вер!»
Ну вот: птица кричит «зинзивер» и называется тоже «зинзивер». Казалось бы, лучшего доказательства того, что люди, изобретая новые слова, прибегают к звукоподражанию, и не требуется. Но это именно «казалось бы».
Да, слово «зинзивер» действительно несколько похоже на те звуки, которые синица издает. «Пинь‑пинь‑тарррарах» или «зинь‑зи‑веррр!» — разница небольшая. И то и другое «слово» распадается на три части: два звонких звука и что‑то вроде раскатистой трели.
Но вот в чем заключается немалая странность: в словаре болгарского языка, родственного русскому, приведено несколько болгарских названий синицы: «ценцигер», «синигер», «синигир».
Удивительно! С одной стороны, «ценцигер» звучит почти так же, как «зинзивер»; похоже, болгары тоже подражали голосу лесной певицы. С другой стороны, близкое к «ценцигеру» имя «синигер» отчасти напоминает и слово «синица» — «сини‑гер». Можно подумать, что и там, за Балканами, по какой‑то странной ошибке желто‑черно‑белая птица тоже получила название, связанное с «синим» цветом.
С третьей же стороны... Вот с третьей стороны и подстерегает нас самая главная неожиданность. Разве третье название синицы — «синигир» — не напоминает вам русское имя другой, совершенно на синицу непохожей, ярко‑красной и пепельно‑серой северной лесной птички — снегирь ? Напоминает, и даже очень.
«Синего» в снегире нет уже равно ничего. Многие думают, что его название связано с тем, что он — птица зимняя, появляющаяся в наших местах вместе со снегом: «снег‑ирь» — «снежная птица».
И вдруг — никакого снега: синигирь ! Возникает вопрос: откуда могло получиться такое своеобразное сходство в названиях двух совершенно друг на друга не похожих птиц?
Не будем сейчас искать ответа на эту довольно сложную задачу. Скажем только, что наблюдение это сильно подрывает веру в справедливость «теории звукоподражания», той «вау‑вау» теории, о которой мы говорили выше.
Теперь возьмем в руки какой‑нибудь хороший, полный словарь русского языка — ну, скажем, составленный известным языковедом Владимиром Далем, и посмотрим, что там говорится о слове «зинзивер».
Нас ждет разочарование. Слова «зинзивер» у Даля в словаре нет. Зато имеются два других слова, очень похожих: «зинзивель» и «зинзивей». Что же, видимо, это тоже какие‑то птички?
Увы! «Зинзивель» оказывается растением — «проскурняк», а «зинзивей» — другим растением, «бриония». Но ведь растения не пищат, не чирикают вроде синиц, не поют песен. Почему же их назвали такими птичьими именами?[6]Нет уж, лучше давайте ограничим в правах пресловутую «вау‑вау» теорию!
Спору нет, в современном нашем языке, вероятно, можно найти некоторое количество слов и, в частности, имен‑названий, построенных на подражании тем или иным звукам. Для примера я приведу вам на память вещь смешную — известную игрушку, надуваемый воздухом резиновый шарик со свистулькой, именуемый «уйди‑уйди». Это одно из звукоподражаний, и притом совсем недавнее. Можно даже довольно точно указать момент его возникновения — второе десятилетие XX века, когда такие свистелки впервые появились на так называемых «вербных» весенних базарах Петербурга и Москвы. Тогда же предприимчивыми торговцами были созданы и смешные рекламные возгласы, вроде: «А вот иностранный мальчик потерял свою: маму! Он плачет и зовет, свою маму не найдет! Уйди, уйди!» Слово привилось.
Можно найти и другие примеры.
Но, во‑первых, их очень мало, непомерно мало в сравнении со всей массой человеческих слов; так мало, что никакого особого значения они иметь не могут.
Во‑вторых, — и в этом главное, — чтобы человек мог начать «подражать» голосам и запевкам разных птиц,. шороху ветра и камыша, треску дерева и стуку камня, надо, чтобы он уже достаточно развил и свои органы речи и свой слух. Он сначала должен был научиться свободно говорить, а потом уже начал передразнивать «языки» птиц и зверей, стихий и неодушевленных предметов. И, вероятно, те немногие слова нашей речи, которые на самом деле родились из звукоподражаний, как раз представляют собой не самый старый, а сравнительно новый слой в языке. Они не начало языка, а порождение его расцвета.
Теория звукоподражания может, пожалуй, объяснить появление того или другого отдельного слова. Но объяснить, как человек научилея говорить , как он создал все огромное богатство своих слов, самых важных, самых нужных, она бессильна.
Ни слово «небо», ни слова «земля», «вода», «ходить», «работать», «трудиться», «торговать» никогда не были подражаниями звукам природы. Они возникли, очевидно, другим путем.
УСТАМИ МЛАДЕНЦЕВ
Рядом со «звукоподражательной» «вау‑вау» теорией некоторое время существовала другая. Шутки ради ее можно было бы назвать теорией «бай‑бай» или «ням‑ням». Суть ее изложить нетрудно. Каждый ребенок, подрастая, пока он еще не научился говорить «по‑человечески», начинает болтать на особенном «детском» языке.
Теперь вы, вероятно, уже забыли об этом, но было время, когда и вы вместо «хочу есть» сердито кричали: «ням‑ням», когда слово «бо‑бо» означало для вас «больно», «бя» — «плохо», «тю‑тю» — «я спрятался», а странное словечко «тпру‑а», которое и взрослому‑то трудно выговорить, не сломав языка, значило не то «гулять», не то «прогулка».
Обычно думают, что малыши потому вместо настоящих слов пользуются этими забавными «суррогатами», что их «легче произносить», «выговаривать». Детишки сами выдумывают свой чудной язык, всегда и у всех одинаковый, а покорные папы и мамы, уже забывшие свое детство, послушно перенимают его у собственных детей.
Возьмите, например, такие слова, как «мама» и «папа». Русские дети называют мать — «мама», маленькие французы — «мама´н», немецкие ребята — «мама´», английские — «мэ´мма», китайские — «мама», корейские — «омма». По‑видимому, где бы ни родился человек, почему‑то именно это или очень похожее слово первым приходит ему в голову, когда надо назвать самое близкое, самое родное, самое дорогое существо на свете.
«Мама» — первое слово человека, который только что явился в мир. Так, может быть, оно и было первым словом всего человечества ? Не с него ли и не с ему ли подобных «детских» слов начался в глубокой древности наш язык?
Может быть, и там, у колыбели мира, создателями первых слов были дети? А потом, когда в дело вмешались взрослые, этот язык начал развиваться, расти. Слово «мама» могло легко превратиться в «мать» и родственные ему слова. Слово «бо‑бо», развившись, стало словом «больно», «болезнь» — и т.д. Это очень заманчивая теория, и кажется она довольно правдоподобной.
Однако справедлива ли она в действительности?
Попробуйте понаблюдать за малышом, который в этаком «ням‑ням‑возрасте» растет сейчас где‑нибудь около вас.
Вот он лежит в своей кроватке. Не унимаясь ни на миг, он все время движет всеми частями своего крошечного тельца (если, конечно, не спит): машет ручками, «сучит ногами». Движения его еще неосмысленны, случайны; он плохо управляет ими. И тем не. менее он все время «работает», «тренируется», упражняет мышцы, не задумываясь над тем, что из его «гимнастики» получается.
Точно так же он непрерывно издает, то неумело шлепая на разные лады губами, то сжимая их, то раскрывая, непонятные звуки.
Естественно, что лучше всего и чаще всего ему удаются самые простые движения. Легче всего для него точно так же издавать несложные, нечленораздельные звуки.
Зажмите себе рот ладонью и попытайтесь, то отпуская ее, то прижимая снова, произносить хотя бы звук "а". Помимо желания, у вас получится нечто вроде: «ба‑ба‑ба», или «ма‑ма‑ма», или «па‑па‑па». Да, да! Помимо вашего желания !
Точно так же у маленького ребенка, когда он, покрикивая, то сжимает, то распускает губы, вырываются, совершенно независимо от его намерения и воли, те же самые случайные сочетания звуков: «Ммаммамма! Пппа‑ппапа! Тетете! Тятятя! Няняня‑мамама!»
Можно сказать уверенно: смысла, значения в них немногим больше, чем в «слове» «плюхх», которое «выговаривает», падая в воду, камень.
Но малыш не камень. Он чувствует то холод, то тепло, то сытость, то голод... На все это он отвечает и движениями и голосом, лепетом. Подошла мать, вот он и заводит свое: «бабаба» или «мамама». Начали его кормить — он опять мурлычет что‑то в этом же роде. Что именно? Да ровно ничего: что выйдет.
Но взрослые привыкли к языку; привыкли сами говорить и понимать то, что говорят другие. И они невольно начинают вкладывать в каждый издаваемый ребенком звук то значение, которое им (а вовсе не ему) представляется наиболее подходящим.
Бормочет он что‑то вроде «мамама», и мать в восторге уверяет, что он уже «начинает говорить», «называть ее». Вырвется у него «папапа», и она даже обижается: почему он отца любит больше, чем ее?! А ведь у малыша в это время наверняка нет еще никакого представления о том, что в мире живут люди, много людей, что они разные, что одних называют «папами», других «мамами», третьих «тетями» или «дядями». Словом, взрослые навязывают малышам свое понимание невнятных звуков, которые те, ни о чем не думая, издают.
Доказать, что это верно, не так уж трудно.
Вот вы, наверно, думаете, что слово «мама» всюду и везде, у всех народов мира означает в устах младенцев «мать». Ну, так ничего подобного[7].
В русском языке, в немецком, во французском — это так.
А у грузин слово «мама» означает вовсе не «мать», а как раз наоборот — «отец»; «мама» по‑грузински значит: «папа»! Вам это, вероятно, покажется очень странным, даже смешным.
Ничего смешного здесь нет. Древние римляне этим же словом «мамма» называли грудь женщины, кормящей ребенка молоком. Именно поэтому и сейчас у нас в зоологии класс, млекопитающих животных называется латинским словом «маммалиа». Почему же так получается?
Это довольно понятно. Ребенок без всяких особых мыслей лепечет свое: «мамма, мамма», а взрослые толкуют это по‑своему. Одним представляется, что он зовет «мать», другие считают, что он обращается к отцу, а третьим кажется, будто он никого не зовет, а просто голоден, хочет есть. Все они одинаково правы, и все в равной степени ошибаются.
У нас, русских, в детском языке отец называется двумя совсем друг на друга не похожими словами: «папа» и «тятя». Слово «дед», «деда» у нас значит «отец отца» (или матери), — «баба» — «мать матери» (или отца). Мы думаем, что так оно должно быть и повсюду.
А в других языках?
У англичан «дэд» (дэдди) значит «отец», «папа». Слово это совсем не похоже на наше «папа», но довольно близко напоминает «тятю» и особенно «дядю». Поставьте рядом такие слова, как «деда», «дядя», «тятя», «тетя», и вы невольно подумаете: да может быть, это одни и те же звуки, только чуть‑чуть по‑разному выговариваемые?
То же самое мы видим повсюду в мире. Слова эти часто очень похожи, а значат они повсюду разное.
У турок и у родственных им народов слово «дади´» значит «няня», а во Франции слово «дада´» — «игрушечный конек», «лошадка на палочке».
Французские малыши к тому же говорят «додо´» вместо нашего «бай‑бай».
В Грузии дедушку называют «бабуа», бабушку — «бэбиа»,а маму, как это ни странно на наш слух, — «дэда».
Да нет даже надобности углубляться в дебри чужих языков. У нас в русском языке слово «папа», как известно, значит «отец». Но вот возле Пскова до сих пор в детском языке это же слово означает также «хлеб», «кушанье». «На´, на´, поешь папы!» — такую странную фразу можно услышать там из уст матери или бабушки, разговаривающей с маленьким ребенком. То же самое наблюдается и на Западной Украине[8]. И опять‑таки удивляться не приходится: как слово «мамма» может получить в понимании взрослых то значение «мать», то смысл «материнская грудь», так и «папа» иной раз понимается как «отец», а иной — как «еда», «питание». Все дело в том, что так называемый «детский язык» на самом деле придумывают и растолковывают вовсе не сами грудные ребята, а их взрослые воспитатели, те люди, которые уже умеют говорить , понимают, что такое язык и для чего он нам нужен.
Так в наши дни люди говорящие «помогают» объясняться тем, кто говорить еще не умеет. Без этой помощи у них бы ничего не вышло.
Но ведь тысячелетия назад, когда люди впервые овладевали речью, на земле еще вовсе не было говоривших живых существ, ни больших, ни малых. Никаких «учителей», никаких «помощников» у древнего человека не было. И конечно, он никак не мог «начать говорить», «овладевать языком», тем способом, каким сейчас овладевают им наши ребята, учась у других. Безусловно, детский язык не мог быть и никогда не был основой, началом «большого» человеческого языка.
Есть и другие доказательства справедливости этих возражений.
Некоторые слова и словечки, которые обычно считаются «детским лепетом», на самом деле имеют свою очень долгую и сложную историю и свое, совершенно недетское, происхождение.
Вот, например, уютное, сонное слово «бай‑бай», — от одного его звука глаза слипаются. Кто, казалось бы, мог его выдумать, кроме засыпающего в теплой кроватке ребенка?
Однако, заглянув в словарь «взрослого» русского языка, мы рядом с «бай‑бай», рядом с «баиньки», «баюшки», рядом с выражением «баюшки‑баю» встретим самый настоящий, да еще старинный, русский «взрослый», глагол «ба´ять», подлинно русское существительное «байка». «Баять» значит: «рассказывать»; «байка» — «сказка». А сочетание слов «баюшки‑ба´ю», несомненно, значит: «я тебе сказываю сказочки». И конечно, оно родилось вовсе не в речи малышей, а в устах матерей и бабушек, которые «убаюкивали» своих любимцев, рассказывая над их колыбельками бесконечные дремотные сказки‑байки[9].
Точно так же языковед скажет вам, что детское словечко «ладушки» (мы его теперь неверно понимаем как «ладошки») на самом деле очень древнего и любопытного, но совершенно «взрослого» происхождения. Детская песенка «Ладушки, ладушки, где были? — У бабушки!» распевалась тогда, когда нашего слова «ладонь» еще и не существовало на свете: наши предки вместо «ладонь» употребляли слово «доло´нь»[10]. Слово же «ладушка» было в те времена словом не только «детского», но и самого что ни на есгь взрослого языка. В «Слове о полку Игореве» несчастная и милая Ярославна горько взывает к ветру, Днепру‑реке и солнцу:
"О ветер‑ветрило!.. Зачем мечешь ханские стрелы на воинов моего лады ?
...O Днепр‑словутич! Принеси моего ладу ко мне, дабы я не оплакивала его по зорям!
...Светлое и пресветлое солнце! Зачем ты палишь горячими лучами воинов моего лады ?"
Тут везде слово «лада» означает «любимый», «муж». Но оно и вообще значило «милый сердцу». У А. К. Толстого в одном из стихотворений говорится:
Порой веселой мая
По лугу вертограда,
Среди цветов гуляя,
Сам‑друг идут два лада .
Толстой стилизует речь, подражая языку Киевской Руси, и у него здесь «лада» значит «влюбленные», «милые», «жених и невеста». Так удивительно ли, если любящие матери нашей древности называли своих маленьких «чад» «ладами» или «ладушками»? А тогда ясно, что детская песенка, доставшаяся нам от тех времен, означает просто: «Милые детушки, где вы были? — У бабушки!» Вот, оказывается, из какой глубины прошлого дошли до нас ее слова: а мы‑то думали, что их чуть ли не сегодня изобрели младенцы, научив заодно им и своих родителей!
Ясно, что теория, по которой человеческий язык создался из детского лепета, не заслуживает большого внимания. Кое‑какие детские словечки («ням‑ням», «бяка», «мама», «папа») живут в каждом «взрослом» языке. Но их в нем очень немного, и родились они не до создания «взрослого языка», а после него. Их создали, приспособляясь к ребяческому лепету, родители и воспитатели; малыши очень редко говорят друг другу «пойдем тпру‑а» или «будем баиньки». Это не детский, а скорее мамин и бабушкин язык.
Значит, и «вау‑вау» теория и «ням‑ням» теория не удовлетворили нас. Осталось познакомиться с третьей такой теорией. Ее, равняясь по первым двум, можно было бы насмешливо окрестить, скажем, «ух‑ух» или «брр‑брр» теорией. Но в науке она носит важное название «теории непроизвольных выкриков».
ТЕОРИЯ НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫКРИКОВ
О чем она говорит?
Человек неожиданно коснулся накаленного предмета. Отдернув руку, он непроизвольно вскрикнул: «Ой!» Вскрикнет русский, вскрикнет негр, таджик, чукча, англичанин или полинезиец. Закричат обязательно, помимо воли.
При этом вряд ли кто‑нибудь из них разразится хохотом или произнесет нечто вроде «тюрлю‑тютю!». Все одинаково выкрикнут: «Ой!», «Ах!», «Ох!», «Уф!» Очевидно, именно эти восклицания естественны , свойственны всем людям, где бы они ни жили.
От чрезмерного холода все мы содрогаемся: «бррр!». Жара вызывает возглас наподобие «фффу!». Это не зависит от нашего намерения , приходит на язык само собой , у всех одинаково.
Так, может быть, следует думать, что примерно такие же непроизвольные выкрики и послужили тысячелетия назад первой основой нашего языка?
Древний человек кинулся в реку и вдруг закричал? «бррр!». Остальные, слыша это , поняли: «Эге! Вода‑то холодновата!» — и уже осторожнее лезут в нее. Очевидно, возглас «бррр!» что‑то значит . Так почему же не воспользоваться им, чтобы всегда сообщать другим свое ощущение холода? Почему непроизвольный выкрик не превратить в слово , употребляемое уже произвольно ?
Если было так, язык, вероятно, и родился бы из подобных полувздохов‑полустонов, из тех «ахов» и «охов», от которых человек, безусловно, не мог удержаться, даже когда был еще «безъязычным» существом. Но так ли это?
Этому можно было бы поверить, если бы нам доказали, что слова, обозначающие сильные непроизвольные чувства, одинаковы во всем мире, у всех людей. Но этого как раз и нет.
Даже наиболее обыкновенные междометия, те самые, которые прямее всего эти чувства выражают, и они в различных языках совершенно не похожи друг на друга.
Наше обыкновеннейшее «ну» будет звучать:
По‑французски
э‑бьен!
по‑английски
уэлл! (или: уай!)
у турок
xaйли´ (или я!)
в киргизском языке
койчу´ (или: бол!)
Смех — один из самых непроизвольных выкриков человека: попробуйте‑ка не смеяться, если вас смешат!
Однако наш глагол «смеяться», «хохотать» на другие языки переводится так:
по‑французски
рир
по‑немецки
ла´хен
по‑английски
лаф
по‑турецки
гюльме´к
по‑киргизски
каткыруу´
по‑японски
бара´у
по‑фински
на´ураа
и так далее
Попробуйте отыщите в этом пестром разнообразии следы первоначальных, будто бы общих у всего человечества «выкриков»!
Сто´ит заметить и еще одно интересное обстоятельство: понятие «смех» будет на разных языках передаваться такими словами:
по‑русски — смех
по‑французски — ри
по‑польски — сьмех
по‑итальянски — ри´за
по‑чешски — смих
по‑румынски — рыс
по‑болгарски — смях и смех
по‑испански — ри´са
Почему‑то у одной группы народов эти слова между собой схожи. Схожи они и у народов другой группы. А вот между этими группами ничего общего нет.
Как это объяснить? Может быть, русские, чехи и поляки смеются похоже друг на друга, но совершенно иначе, чем румыны, французы или испанцы? Но ведь это неверно: смех действительно одинаков у всех народов земли!
Значит, дело вовсе не в этом. Просто у одних, близких между собою по языкам, народов слово «смех» образовалось от одного корня, у.других — от совершенно иного. А к звукам самого «непроизвольного выкрика» — хохота — ни то, ни другое слово не имеет ни малейшего отношения. Между звуками «ха‑ха‑ха» и словами «ри´за», «смех», «каткыруу´» связи не больше, чем между словом «лев» и рыжей шкурой этого зверя или его хвостом с кисточкой.
Нет, видимо, и эта «теория» ничего не объясняет нам в важном вопросе — откуда люди взяли свой язык.
Да и на самом деле, все три теории, с которыми мы познакомились, стоят на том, что язык создан самой природой человека или взят им из природы , его окружавшей. Это природные теории языка.
Но «природа» везде и всюду одна. Птицы и звери.кричат всюду одинаково; малыши «гу´лят» и «ува´кают» в Азии, как и в Европе; люди смеются, плачут, отфыркиваются и на мысе Доброй Надежды точно так же, как на Новой Земле. А говорят они везде по‑разному. Почему же это?
Звуки природы слышат и звери. Их детеныши тоже бормочут что‑то по‑своему. От боли издают «непроизвольный выкрик» и кошка и лягушка. Так почему же из всех живых существ только один человек сумел превратить эти «дразнилки», «ахи», «охи», детский лепет и плач в нечто величавое и могучее, в свой язык?
Видимо, самого главного все эти теории не объясняют. Они идут к решению загадки по неверному пути. А правильный путь известен нам: его еще в прошлом веке наметили перед нами великие мыслители и ученые Маркс и Энгельс.