Глава 7. ПОСТУПЬ ВЕКОВ
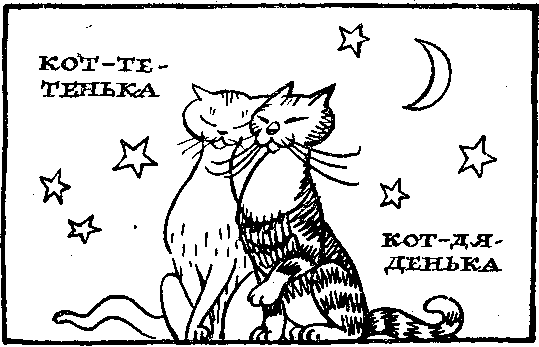
Когда мы с вами рассматривали слова человеческого языка, мы встречались и с медленным изменением их состава внутри отдельных языков и с пережитками давнего времени, которыми так богат наш «словарный фонд». Но ведь и только что, обратив внимание на «внутреннее устройство» слова, мы в нем самом подсмотрели явления неодинакового возраста. Не все наши суффиксы — ровесники: среди них есть такие, которые, прожив бурную и деятельную жизнь, ушли на покой, уступив место другим. Есть такие, которые именно теперь образуют большое число новых слов. Сравните хотя бы то «‑ль», которое века назад означало принадлежность в слове «Ярославль», с теми «‑ов» или «‑ев», какими мы пользуемся с этой же целью во множестве наших современных слов сегодня. Что же? Значит, в языке изменчив не только его словарный состав, но и управляющая словами грамматика?
Да, так оно и есть. Грамматический строй языка претерпевает с течением времени изменения, совершенствуется, обогащается новыми правилами, но основы грамматического строя сохраняются в течение очень долгого времени.
Раз грамматический строй языка изменяется еще более медленно, чем его основной словарный фонд, значит, мы можем указать на такие явления грамматики, которые когда‑то были свойственны нашему языку, а затем перестали существовать в нем, так же как умерли некоторые слова этого языка.
Раз это изменение медленно, и даже очень медленно, мы наверняка можем, изучая его, наткнуться на случаи, когда грамматическое правило уже перестало иметь неотменимую силу всеобщего закона, но еще сохраняется кое‑где и кое в чем, когда то или иное из явлений грамматики для своего объяснения требует такого же глубокого исследования истории языка, какого требуют, как мы видели, для их понимания некоторые наши слова и даже некоторые звуки наших слов.
Попробуем на одном‑двух примерах познакомиться с такими явлениями.
ЧТО ЭТО ЗА ПАДЕЖ?
Вероятно, каждый из читателей считает себя способным без затруднения установить в любом русском предложении, в каком числе и падеже стоят входящие в него имена существительные. Было бы просто стыдно, если бы кто‑либо из нас не умел этого сделать.
Если так, позвольте предложить вашему вниманию вот такую, довольно простую на вид, фразу:
"Ровно в два часа пополудни эскадроны, построившись в четыре ряда , начали движение на высоту. В пять часов, однако, от этих рядов ничего не осталось..."
Я просил бы вас определить, в каком числе и падеже стоят слова «час» и «ряд» там, где они выделены шрифтом? Боюсь, однако, что простой вопрос этот вызовет у вас неожиданные споры и разногласия.
Действительно: речь в обоих случаях идет о двух или о четырех , а не об одном предмете. Было бы крайне странно, если бы мы о нескольких вещах попытались говорить в единственном числе. Надо думать, перед нами число множественное .
Но, просклоняв во множественном числе слово «ряд» или слово «час», вы вряд ли найдете там подобные формы: «часа´», «ряда´»... Вот формы «часо´в» и «рядо´в» — точь‑в‑точь такие, какие мы видим во втором предложении нашего примера, — там присутствуют. Это бесспорные родительные падежи.
«Я не вижу чего»? — «Я не вижу часо´в».
«Сколько тут — чего?», «Сколько тут рядов?» — «Десять рядо´в». И вдруг совершенно неожиданно: «Сколько рядо´в?» — «Два ряда´»!
Положение осложнится, если вы обратите внимание на то, что и в единственном числе самая близкая к нашей падежная форма — родительный падеж «ря´да» — имеет несколько иной вид, чем наше «ряда´». Никто ведь не говорит: «Из ряда´ вон выходящий случай» или: «У меня билет первого ряда´».
Откуда же, спрашивается, взялось у нас в языке это странное «ряда´»?
Прежде всего: существительные «ряд» и «час» стоят здесь не сами по себе, а в связи с именами числительными: «два часа´», «четыре ряда´».
Между тем в наших русских числительных вообще довольно много загадочных свойств для человека наблюдательного.
Возьмите такие из них, как «один» и «два». Оба они изменяются по родам. Можно сказать: «один танк», «одна пушка», «одно орудие». А вот формы среднего рода от слова «два» никак не произведешь.
Сказать «два человека» можно. Сказать «две птицы» также можно. Но если речь заходит «о двух растениях» или «двух животных», то вам приходится употреблять при этих существительных имя числительное в той же форме, как и при «человек», «зверь», «дом», то есть в форме мужского рода: «два окна», «два насекомых». А почему не «две окна»? Попробуйте объяснить[1].
Нельзя, естественно, от числительного «два» образовать и формы множественного числа. Вот я сказал «естественно», но если вдуматься, так никакой «естественности» в этом нет.
Можно допустить, что множественное число от «два» не образуется просто по ненадобности; и без того ясно: слово это означает не «один» предмет, а больше.
Да. Но ведь слово «тысяча» означает в пятьсот раз большее число, нежели «два», а мы спокойно говорим «тысячи», «многие тысячи», «десятки тысяч». Говорим мы и «пятьсот», «тремястами».
Пожалуй, объяснить это можно только тем, что числительное «два» почти совсем утратило все свойства «имени», тогда как слово «тысяча», хотя и стало названием числа, всё еще продолжает оставаться именем существительным. К слову «тысяча» можно без труда присоединить определение: «моя тысяча», «полная тысяча», «добрая тысяча». Можно от него образовать уменьшительное: «тысчонка».
А попробуйте сделать что‑нибудь подобное со словом «два». Ведь «двойка» не есть уменьшительное к «два»; это совсем другое слово, очень далекое от значения «маленькая пара». «Двойка» — название цифры, а не числа.
Вот со словом «один» дело обстоит совершенно иначе. Не говоря уже о том, что «один» имеет все три родовые формы: «один, одна, одно», слово это, казалось бы воплощающее наше представление об «единственности», совершенно спокойно принимает формы множественного числа :
Мы — одни: из сада в стекла окон
Светит месяц...
А.Фет
Или:
Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...
А.С. Пушкин
Попробуйте вдуматься в эти выражения; они поразят вас своей противоречивостью; тот, кто не является знатоком русского языка, поймет их с трудом.
«Я один» — казалось бы, значит: "я нахожусь в единственном числе". А «мы одни» означает, что каждый из н.ас именно «не один»; нас, по меньшей мере, — двое, а может быть — и множество; ведь много же «полосатых верст» насчитал на своей ночной дороге Пушкин!
Получается, что слово «одни» здесь уже почти утратило значение числительного, перестало отвечать на вопрос «сколько» и сделалось близким по смыслу к таким наречиям, как «втроем», «всемером», или даже как «много», «несколько». «Одни» стало значить: «без посторонних», «только они».
Довольно поучительно приглядеться, как пользуются словами такого же значения другие — не наш — языки.
Нашему слову «один» в смысле «единица» будут соответствовать такие слова:
по‑английский — one
по‑французски — un
по‑немецки — ein.
А вот нашему «один» в смысле «в одиночестве» приходится подбирать уже совсем другие переводы. «Я один» будет звучать:
по‑французски:
по‑английски:
по‑немецки:
je suis seul (же сюи сель) (я нахожусь в одиночестве)
I am by myself (ай эм бай май‑селф) (я у самого себя)
или
I am alone (ай эм элоун).
Последнее выражение связано с one (уан).
Ich bin allein (их бин аллейн).
И тут «аллейн» связано с «ейн».
Наше же «мы одни», если его прямо перевести на эти языки, покажется французу или англичанину просто немыслимым[2].
Невольно вспомнишь слова знаменитого французского писателя П. Мериме:
«Русскому языку достаточно одного слова, чтобы соединить в нем множество мыслей, для выражения которых другими языками потребовались бы длиннейшие предложения...»
Следующее числительное — «три» — уже совершенно не изменяется по родам; идет ли речь о трактористах, доярках или полях, мы одинаково скажем о них — «три»[3]. И, собственно, это как раз неудивительно: так именно ведут себя и все остальные числительные — «пять», «восемь», вплоть до «двадцати».
Однако тут‑то и всплывает вновь то странное расхождение, с которого мы начали эту главу.
Мы говорим:
один цыпленок
5, 6, 20, 100, 10 000 007 цыплят
Но: 2, 3, 4, 33, 1234 цыпленка
одна кисть
8, 17, 2937 кистей
2, 3, 4 кисти
одно поле
5, 70, 1100 полей
2, 4, 723 поля
В чем дело? А в том, что тут в левом столбце перед вами именительный падеж единственного числа, в среднем — родительный множественного, а вот в правом — как раз тот загадочный падеж числа неведомого : «2 рядА, 3 часА...»
В языке ничто или почти ничто не случается просто так , без причины. Если из всех числительных «два», «три», «четыре» ведут себя резко отлично от остальных, это что‑нибудь да обозначает.
Сейчас у нас в русском языке, как вы очень хорошо знаете, имеется только два различных «числа» — единственное и множественное. Несколько же столетий назад их было три : единственное, множественное и двойственное . Это странное для каждого из нас «третье число» употреблялось первоначально всюду там, где речь шла о парных предметах, вроде человеческих глаз, рук, ног, рогов животных и т. п. Каждое существительное такого типа могло склоняться еще и в двойственном числе, отличном и от единственного и от множественного; падежи там имели совсем иные окончания.
Представить себе, как это делалось, без образчика почти невозможно. Чтобы облегчить вам задачу, я приведу несколько примеров старинного употребления творительного падежа . Они взяты из замечательного памятника древнерусской речи, из «Поучения Владимира Мономаха». «Поучение» это написано на том великолепном, выразительном русском языке, на каком говорили наши предки лет восемьсот назад.
Вот перед вами творительный падеж множественного числа:
"И вынидохом на святого Бориса день из Чернигова, и ехахом сквозе полкы половечьскыя не с 100 дружины, и с детьми и с женами "[4].
Тут слова, выделенные курсивом, склоняются точно так, как мы склоняли бы их сейчас.
Вот творительный падеж числа единственного:
"И седе в Переяславли 3 лета и 3 зимы, и с дружиною своею ..."[5]
Здесь в употреблении творительного падежа тоже нет ничего удивительного для нас с вами. Так же склоняем и мы.
Но вот, наконец, перед вами тот же творительный падеж, но уже двойственного числа:
"А се в Чернигове деял семь: конь дикых своима рукама связал есмь в пущах по 10 и 20 живых конь, а кроме того еже по Роси ездя имал есмь своима рукама те же кони дикыя. Тура мя 2 метала на розех. А 2 лоси один ногами топтал, а другой рогома бол"[6].
Вот теперь разница, вероятно, бросается вам в глаза: одно дело — «с детьми и с женами», и совсем другое дело — «рогома и ногама»!
Другие падежи двойственного числа тоже имели свою особую форму[7]. Само же число это мало‑помалу стало употребляться не только в связи с парными предметами, но всюду, где речь шла о двух, трех или четырех предметах счета. Затем, также постепенно, оно начало исчезать из языка нашего народа: язык совершенствовал, улучшал и упрощал свои правила и законы. Но изменения эти медленны, так медленны, что кое‑где остатки прошлого, как бы окаменев, дожили до наших дней.
Так, например, склоняя числительное «два», вы, сами того не зная, спокойно употребляете древний «родительный падеж двойственного числа» от этого слова: «двух» = «дв+у+х»; в творительном же добавляете к нему еще и столь же древнее окончание творительного двойственного: «дв+у+мя». Ученые узнаю´т окончания этого числа в наших числительных «дв‑е‑надцать» и «дв‑е‑сти». Его же встречаем мы в таких странных по форме наречиях, как «воочию» («очию» было некогда местным падежом двойственного числа от слова «око»), которое означает «в двух глазах», или в таких, как «между».
И в тех примерах, в которых мы начали («два ряда», «четыре часа»), перед нами действительно появилась таинственная форма, не узнать которую вы имели законное право: это винительный падеж двойственного числа .
Судите сами, сколь сложен бывает порою путь, которым должен идти языковед, если он хочет ответить на вопросы, скрытые в самом, казалось бы, простом на вид нашем современном предложении.
ЗАГАДКА ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА
Помните у Пушкина:
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркальце наводит,
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна...
Что случилось? Бедная Татьяна ошиблась и направила свое волшебное стекло вместо одного светила на другое? Ничего подобного: месяц это и есть луна...
«Позвольте, — вправе сказать каждый, кто считает, что человеческий язык подчиняется правилам человеческой же логики, — как же так? Разве это не абсурд? Один и тот же предмет, небесное тело, именуется в русском языке двумя различными именами. Это куда ни шло: может быть, они отражают разные, но одинаково присущие ему черты, как их отражают слова „животное“ и „позвоночное“, „членистоногое“ и „насекомое“. Но что странно: слова‑то эти разного рода: одно — мужского, другое — женского. Это, по меньшей мере, так же нелепо, как если бы у вас появился приятель, претендующий на то, чтобы его звали то Петей, то Аннушкой!»
Впрочем, столь ли уж это удивительно? Может быть, и в других языках та же картина? Нет: по‑французски луна — «la lune» — женского рода, и конец;[8]по‑немецки месяц — мужчина, и только: «der Mond».
Мы же привыкли к этой странности нашей речи и просто не замечаем ее, самым спокойным образом изображая в слове луну то в виде мужчины, то в виде женщины:
И сказало солнце брату :
Месяц, брат мой золотой!.. ‑
читаем мы в стихотворении Полонского. А Фет о том же месяце пишет, так сказать, совсем наоборот:
Долго еще прогорит Веспера скромная лампа,
Но уже светит с небес девы изменчивый лик...
Или:
...медлительной царицей
Луна двурогая обходит небеса...
Здесь «дева», «царица» — опять‑таки луна, то есть тот же брат‑месяц. Это не мешает тому же Фету в других стихотворениях восклицать:
О, этот месяц‑волшебник !
и вообще явно не считаться с родом существительных, обозначающих как‑никак один и тот же предмет...
А обращали ли вы когда‑нибудь внимание на такую совершенную бессмыслицу: если всерьез принимать наши грамматические «роды», то получается, что «стул» чем‑то мужественней «табуретки» и гибкий, нежный хмель больше похож на мужчину, чем та могучая береза, вокруг которой он обвился. Помните, в главе, посвященной словарям, я обращал ваше внимание на то, что у А. С. Пушкина в разные времена его творчества «тополь» («топол») играет роль то влюбленного юноши, то нежной девушки. В одном случае «с тополом» сплетается младая ива, в другом — хмель литовских берегов пленяется «немецкой тополью». Да и удивляться тут нечему: «слива» в наших глазах почему‑то «она», «персик» — он, а «яблоко» так и вообще — «оно», среднего, не существующего в жизни рода.
Даже самое поверхностное размышление об этом приводит к мысли, что основания такого распределения не могут лежать ни в прямой природе вещей, ни в логике нашего внутреннего отношения к ним. Они, очевидно, таятся где‑то во внутренних законах языка, в самой их глубине, и вскрыть их не так‑то просто.
В самом деле: если бы распределение различных предметов по грамматическим родам основывалось на качествах, присущих им самим, на их собственных и существенных свойствах, тогда в языках всех народов «мужской» и «женский», «женский» и «средний» роды имели бы одинаковое распределение. А на деле — возьмите хотя бы то же «яблоко».
Оно называется
по‑русски:
по‑французски:
по‑немецки:
по‑английски:
яблоко
ля помм
дер апфель
эппл
(la pomme)
(der Apfel)
(apple)
(среднего рода)
(женского рода)
(мужского рода)
(никакого рода)
Не кажется ли вам, что величайшей бессмыслицей было бы спрашивать: а какого же рода настоящее яблоко, то, которое качается на ветке дерева, а не звучит в языке? Никакого рода у него нет и быть не может, и ничем оно в этом отношении не отличается от груши или граната. Ничему реальному в природе вещей наши грамматические роды явно не соответствуют. Но значит ли это, что они как бы «высосаны из пальца», сочинены народами без всяких оснований и причин? Само собой разумеется, нет.